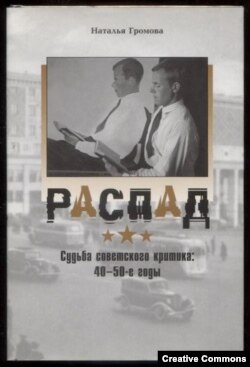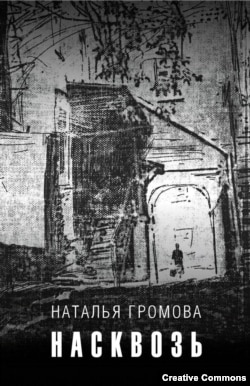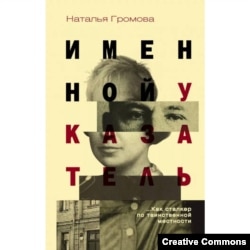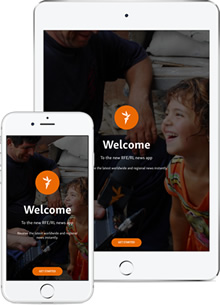Иван Толстой: Сто лет назад на юг – в Константинополь, на запад – в Польшу, Румынию, Финляндию побежала антибольшевистская Россия. Ее антибольшевизм был только отчасти политическим, бежали все подряд, все сословия и профессии, невзирая на возраст и имущественное состояние. Бежали от анархии, стрельбы, грабежей, террора, бежали от гибнущей страны, у которой не могло быть внятного будущего.
Вот уже тридцать с лишним лет мы мирно изучаем опыт той, первой волны эмиграции, пишем ее историю, собираем наследие, вздыхаем и все меньше переживаем ее драму: давно это было. Целый век назад.
Какая насмешка! Какой чудовищный тролль задумал сегодняшнюю дурную рифму – сковырнуть со своих мест несколько сот тысяч образованных, успешных, умных, пишущих, снимающих, изобретающих людей (опять-таки самых разных имущественных состояний) и ровно сто лет спустя после той исторической драмы затеять новую. Причем в тех же географических координатах и векторах.
Экая дурная рифма.
Кто это сказал, что пять лет под гнетом – это трагедия народа, но пятьдесят лет под гнетом – это уже проблема самого народа?
Насколько мы сами виноваты в том, что теперь случилось? В какой степени мы несем ответственность за цензурные тиски, за пропагандное оболванивание, наконец, за войну?
Но я же кричал: "Тираны!"
И славил зарю свободы!
Когда же дела у нас пошли не так?
"Мы не можем вернуться в тот мир". О дурной рифме истории я беседую с писательницей Натальей Громовой, автором многих книг о драме довоенных и послевоенных советских писателей. В марте Наталья Александровна покинула Москву. Сейчас она в Варшаве.
Что заставило вас уехать из России?
Внутри меня произошел какой-то взрыв просто
Наталья Громова: В тот день, когда произошло это вторжение, 24-го числа, мы проснулись в полном ужасе, было ощущение, что бомбят не Киев, а нас. И дальше пошли дни, день за днем. Предполагалось, что надо ходить на работу, делать то, что ты делал… Но это было невозможно и под валом этих чудовищных известий, и близких, друзей, которые остались в Киеве. А главное – для меня происходило зачеркивание всего, чем я когда-то занималась. Все, что я говорила на экскурсиях, все, что я писала, приходило в полное противоречие с той жизнью, которой я должна была жить. Мы пошли на один сбор, который, конечно, разгоняли, пошли на второй, потом это стало безнадежно, потому что всех разгоняли мгновенно. Внутри меня произошел какой-то взрыв просто.
Еще были такие обстоятельства, что у меня в Википедии есть большая статья, и вдруг туда кем-то были вывалены все письма, которые я когда-то подписывала – и против войны, и против Путина, и вообще все на свете. Я поняла, что кто-то поработал над этим. Кроме того, я знала всегда, что в ЖЖ гуляет тема – кого они будут вешать, всех тех, кто когда-то выступал против Крыма, и так далее. И все вместе превращало меня в человека, который там просто жить не может, просто в лишнего. Дочь моя, к счастью, была уже в это время в Израиле, она поехала с программой Таглита, просто с осведомительной поездкой, и там осталась, муж мой не может уехать, потому что у него старенькая мама, но он меня просто умолял, чтобы я уехала. А самое главное, что у меня знакомые люди, с которыми я работала, у них мужья подписывали письма за войну.
Каждый человек, который сейчас уехал, фактически сжег за собой все, мы сможем вернуться только тогда, когда все, что там сейчас происходит, закончится, рухнет
Надо было либо со всем этим миром рвать, который еще сидел в кафе, ходил по улицам и делал вид, что ничего не происходит, либо уезжать. Это ситуация, о которой писали наши замечательные классики, когда нет воздуха, когда у тебя каждый день ощущение, что там не воздух, а яд наполняет тебя. Понятно, что мы существовали все от одних новостей до других, никто там не спал, не ел, ситуация у людей, которые этого всего не переносят, была невыносима. Уезжали еще и от того, что некий тупик обозначился, в котором говорить ты уже не можешь, выступать ты уже не можешь, быть самим собой не можешь. Остается закрыться, захлопнуться. Но для меня это невозможно, потому что я человек слова. Каждый человек, который сейчас уехал, он фактически сжег за собой все, мы знаем, что сможем вернуться только тогда, когда все, что там сейчас происходит, закончится, рухнет. Мы не можем вернуться в тот мир.
Иван Толстой: Какая фантастическая рифма к тому, чем наше читающее, пишущее, литературное, гуманитарное общество было увлечено в последние тридцать лет – русская революция столетней давности и ее отроги, ее эхо. И вот теперь это неожиданно случается с нашим поколением, и это такой бенц, которого никто не ждал, особенно в таком масштабе, который начинает чуть ли не быть сопоставимым с тем, что было тогда. Сто лет назад Александр Блок написал свою знаменитую статью "Интеллигенция и революция", на которую многие плевались, кто-то ухмылялся, кто-то воспринимал всерьез. Тем не менее, при всем отличии государственных обстоятельств, политики и историко-экономической ситуации тех лет и наших, очень хочется высмотреть и вытянуть те же самые моральные проблемы, о которых пишет Блок, – проблемы ответственности самого общества перед той катастрофой, ответственности интеллигенции. Как для вас эти вещи перекликаются? Можно ли извлечь какой-то смысл, какую-то правду, какое-то объяснение или облегчение из прошлого, применить к нашему дню или увидеть в свете того, что написано уже классикой ХХ века, увидеть причины того, что случилось с нами? В чем причины нашего провала?
Наталья Громова: Давайте я начну с 2014 года, хотя надо и в 1991-й обратиться потом. В 2014 году я написала роман "Насквозь", который вышел в 2020 году, где я описываю историю Украины, моей семьи, ответственности моего поколения. Я в 2014 году, когда начался первый страшный сдвиг с Крымом, осознала, что продолжает движение тот материк, который задвигался в 1914 году, сто лет назад, во время Первой мировой войны, который означал раскол всех империй. Весь европейский материк был расколот и пришел к тому, к чему он потом еще приходил через Вторую мировую войну. Но суть в том, что в 2014 году мы все, не только я, а несколько человек написали про это. Борис Минаев писал свой цикл романов, Сергей Лебедев… Очень многие тогда думали именно про конец той истории, о том, что не завершился этот этап в России.
Я из очень простой семьи, военной, к ужасу, должна сказать, что мой дед вообще был энкавэдэшник
Как мы знаем, советская власть сумела тогда перезагрузить империю, то, что распалось в итоге Первой мировой войны, превратилось потом, с помощью сменовеховской линии, когда они поверили в советскую империю, когда Лениным и Сталиным была придумана вся эта история с национальными республиками, это была перезагрузка империи, на самом деле. Это была своего рода ложная посылка, она просто замораживала то, что уже отпало в тот момент. Хотя понятно, что эта история длилась. И когда пошла история с Крымом, я осознала, что начался этот разлом, куда нас всех втаскивает этот водоворот. Тогда я написала эту книгу, где говорила о проблеме ответственности нашего поколения.
Я из очень простой семьи, военной, к ужасу, должна сказать, что мой дед вообще был энкавэдэшник, для меня это было открытие уже более позднее, в детстве я видела, как этот человек просто последовательно разрушал семью. Я написала очень откровенно эту страшную историю своей семьи, как я потом пришла из советской девочки к осознанию того, в чем участвовал мой дед. Это была моя личная очень сильная драма, но я понимала, что не имею права говорить о советской истории честно, с открытым забралом, если не расскажу честно про свою историю (а я это сделала еще раньше, в книге "Ключ. Последняя Москва"). Там есть и 1991-й, и 1993 год, для меня это все темы постоянной рефлексии. И мое окружение, мой круг людей, мы стояли у Белого дома, были вполне уже зрелыми тогда тридцатилетними людьми, и очень принимали это возрождение открытым сердцем.
У нас народ никому не верит, он верит только КГБ, он считает их чистыми, и власть вполне сейчас может перехватить человек оттуда
Но я помню, что уже на третий день этого нашего празднования августовского кто-то сказал очень важную вещь: а вы знаете, ведь у нас народ никому не верит, он верит только КГБ, он считает их чистыми, и власть вполне сейчас может перехватить человек оттуда. Мы тогда призадумались, потому что действительно было непонятно, как это будет трансформировано. Все мы понимали про Ельцина, мы чувствовали, что в нем воплотилась какая-то надежда и мечта, но мы понимали, откуда он, и что у всех были открытые глаза и все все знали.
Но было очень много поразительных деталей в то время. Детали состояли в том, что после августа началось замедленное движение и интеллигенция в каком-то смысле отдала все это в руки экономистам. Люди моего круга еще не могли влиять ни на что, хотя я пошла работать в газету Соловейчика "Первое сентября", но все равно у меня не было еще ни рычагов, ни возможностей. Но огромное количество людей тогда разъезжались, Игорь Иванович Виноградов, который тогда "Континент" перехватил, еще мои очень хорошие старые знакомые поехали читать лекции в Швейцарию, все это поколение шестидесятников стало плодами этой победы очень быстро пользоваться. Как бы отпустили все на самотек, когда надо было заниматься просвещением.
В чем была еще жуткая драма, которую я очень быстро осознала? Когда было сорок дней этих мальчиков, которых тогда убили, была целая процессия, и там была одна сцена, которая меня никогда не оставляла. Мы шли, и был такой кордон, стояли милиционеры по сторонам, и стояли люди, которые смотрели на нас без всякого сочувствия, с неприятием. И вдруг я услышала, как какой-то милиционер сказал: "Вот увидел бы этого Ельцина – и пулю ему в лоб!" Это было через сорок дней после победы! И какая-то тетка сказала: "И я бы его своими руками задушила!" И вдруг я поняла, что на самом деле мы – какая-то жалкая кучка интеллигентов в Питере, в Москве, в больших городах, которые что-то сумели на время повернуть, но мы не получили никакой поддержки. Да еще потом, когда посыпалось, начались все эти реформы. То есть в моральном плане победы-то не случилось.
Я уже не говорю про то, что следующей тяжелейший ошибкой интеллигенции было отсутствие суда над КПСС. Фактически вся бывшая коммунистическая, комсомольская верхушка была допущена к власти. Но другой власти вроде и взять было неоткуда. Это сыграло роковую роль. И когда только произнесено было слово "люстрация" на страницах газет, началась истерика о том, что мы не должны охоту на ведьм устраивать. Мы все прощаем, мы все прикрываем.
Иван Толстой: А вам это не напоминает реакцию Керенского, когда Федор Степун и Борис Савинков нависают над ним в кабинете и требуют от него арестовать Ленина с Зиновьевым, а он колеблется? Савинков подготовил даже у секретарей документ, там осталось только расписаться Керенскому, все было готово к аресту. Керенский макает перо в чернильницу, заносит и говорит: "Да, да, понимаю, Борис Викторович, конечно, Федор Августович…" И откладывает перо: "Нет, нет, не могу, не могу! Мы демократы, мы не можем поступать как царизм! Мы за что боролись? Мы же социалисты!" "Александр Федорович, – говорят ему эти два совершено разных человека, но понимающие, что вот оно, яйцо Кощеево, нужно хватать, ломать и растаптывать, – он погубит Россию, и вы будете виновником этого!" – "Да, да, понимаю, но нет, нет, я не могу подписать". И не подписал.
Наталья Громова: Я всегда верю в многофакторность, там, конечно, не было какого-то единого понимания, фронта против всего этого, но все равно была очень слабая власть.
Иван Толстой: Конечно, я редуцирую и свожу к одному эпизоду, но он у меня не идет из головы.
Наталья Громова: Конечно, я понимаю, что такое эсеры и какую страшную цену они потом заплатили за то, что они не довели это до конца. Но наша история гораздо более ужасна, потому что советский призрак не отступал никогда.
Я знаю этот советский абсолютно разлагающий мир, который существует в разных формах – и в военной, и в кагэбэшной
Почему я посвятила этому фактически полжизни? Я его знала изнутри. Я не была такой интеллектуалкой, сформированной с детства, с хорошими книжками, я истину искала сама, и мой отец был абсолютный коммунистический человек, но очень честный, мой дед был человек очень страшный, но всячески прикидывающийся волком в овечьей шкуре. Мне по-своему было даже приятно, что он умер очень пожилым человеком. Он всю жизнь боялся. Я с ним не общалась с юности, но он умер, когда Ельцин пришел к власти, и полжизни его сопровождал дикий, истерический страх, я очень хорошо про это знаю, поэтому я знаю этот советский абсолютно разлагающий мир, который существует в разных формах – и в военной, и в кагэбэшной. Я знаю эти формы, как они изнутри существуют, как они самоедством занимаются.
Поэтому я понимала, что это одна из самых ужасных угроз для нас. И когда я стала этим заниматься, я вдруг увидела, что, оказывается, с легкостью можно выстирать эту одежду, подшить, залатать и начать ее опять потихоньку примеривать. Вы помните, как появился советский гимн, когда все это начало выползать, с какой-то невероятной скоростью. Хотя, казалось бы, это заняло столько десятилетий, но мы не знали этой точки, в которой мы все проснулись 24 февраля, что она придет в такую форму. Все равно казалось, что это люди очень развращенные хорошей жизнью, они до этого не смогут дойти. Несмотря на то, что они все клянутся, что Ленина ненавидят, это все полная ложь, потому что весь советский арсенал был взят на вооружение. Другого у них нет.
И я видела и писала про то, как постепенно ломали этих писателей, поэтов, которые обладали каким-то талантом, как они постепенно сдавали свои позиции. Но в советском проекте был некий позитивный настрой, его отменить было невозможно, это было тогда очень популярно во всем мире, и за этим была какая-то идея освобождения человека. Другой вопрос, что это все было ложью от первого до последнего слова, но это работало. Современная власть, воспользовавшись всеми методами, не имеет никаких идей, кроме захватнических и самых диких имперских, на уровне феодализма 15–16-го века. Она хватает с полок всю мифологию, все, что ей попадается под руку. Но здесь самая главная драма, о которой говорил Мераб Мамардашвили и по поводу Грузии, и России, что каждая европейская страна, которая проходила какие-то исторические катаклизмы, она после каждого катаклизма делала хоть небольшой, но шажок вперед или вверх. Она осознавала все жертвы человеческие и прочие, и она менялась.
Мы не можем создать в обществе ни ощущения ответственности, ни ощущения чувства собственного достоинства
Драма России состоит в том, что она не извлекает никаких уроков, что она все время оказывается в той точке, в которой она уже была, таким образом, получается, что эти жертвы, молох истории все это перерабатывает напрасно. Мы не можем создать в обществе ни ощущения ответственности, ни ощущения чувства собственного достоинства, ни понимания, что от выборов зависит твое будущее. Нет понимания причинно-следственных связей, понимания, что за преступлением следует наказание. Цепочки разорваны поразительным образом.
У нас во дворе люди добрые, хорошие, они подходят и говорят: вот эти бандеровцы, смотрите, какое зло они творят. Они верят всему, у них не возникает никаких рефлексий. Они сажают цветочки, они хотят, чтобы было чисто и хорошо, но они не растут никуда. Они прожили тридцать лет в более или менее открытом обществе, в мире, где можно выбирать информацию, не обязательно смотреть все время телевизор. Не берут! В этом колоссальная драма. И я понимаю про себя, что те книжки, те выставки, которые я делала, это книжки и выставки для того определенного круга, который понимает, но он очень узкий, этот круг ничего не может изменить, вот в чем несчастье наших выборов, любых попыток изменить.
На это приходит ложь. Самый гениальный лжец был Владимир Ильич Ленин, он первый запустил вот это: земля – крестьянам, фабрики – рабочим. И это сработало. И эта ложь воспроизводится, и она удобна. Вот в чем абсолютный кошмар этого общества. Конечно, у меня сейчас самые драматические представления о будущем России. Невозможно освободить внешне народ, который не освобождается изнутри. Возможно, это какая-то библейская сейчас история разворачивается, когда божья кара обрушивается на тех, которые не хотят просыпаться, не хотят видеть ничего. Они не понимают, что сейчас они посеяли ветер, который вызовет кошмарную бурю уже внутри самой России. Ведь сейчас идет вопрос не о существовании Украины, а о существовании России вообще как культуры, как государства, такого государства, которое вообще сможет быть на что-то способным. Потому что не воспринимают уроки, не воспринимают никакого движения.
Мы существовали как эта интеллигенция, о которой мы говорим, с ответственностью, безответственностью, мы как были при Петре Первом как два народа, которые он создал, вот эту интеллигенцию тогда выучил, и этот разлом так и существовал. То Гоголь пытался перепрыгнуть на своей птице-тройке, то Достоевский, все пытались это водораздел перепрыгнуть, спасти народ, страдать с ним. Но почему-то только расширяется эта огромная между нами пропасть. Поэтому ситуация катастрофическая даже не в смысле войны, потому что у меня вообще странное ощущение, что Путин – это человек, который пришел для того, чтобы действительно довести вот этот имперский проект до конца, он есть орудие абсолютно иных сил. Полное ощущение, что это такой запущенный механизм саморазрушения. Он этого даже не понимает, потому что в данном случае он творит абсолютное зло сейчас.
Все, что происходило с людьми, которые выходили из лагерей, которые писали нам про войну и про этот уничтоженный на войне миллионами народ, казалось бы, на каком-то витке, когда люди пришли из лагерей, должна была возникнуть некая сила, которая скажет, что больше такого не может повторяться. В этом печаль и боль той же Ольги Берггольц, и вот эти страшные полуистерические есть записи у Шварца о том, что ему говорить на страшном суде, – это он, человек, который написал "Дракона", спрашивал себя по самому высшему разряду, а остальные не спрашивали! И крестный путь Пастернака, который себя просто положил на заклание всей этой истории, потому что он должен был дойти эту историю до конца. Каждый сам по себе пытался что-то поменять в ходе истории, и мы понимаем, что приехали люди, они кидали камни в пастернаковский дом, они гнобили, они участвовали, и все продолжалось по-старому. Вот в этом драма.
Мы должны были изучать в себе это советское для того, чтобы справиться с ним, а мы его отторгли
Но есть еще один элемент, который для меня особенно драматичен. Я на определенном витке уже соединилась с писательским миром, который уже не такой, какой был в Союзе писателей, а более новый. Начиная 2010-х годов, когда эти ребята, типа Прилепина, Шаргунова, тогда заинтересовались, кстати, моими сочинениями, им нравилось, что я пишу про советскую жизнь. Я тогда, когда еще могла разговаривать, объясняла, что это имеет совсем другую коннотацию, я это рассматриваю, я это пытаюсь понять. После 2000-х, когда еще был очень популярен Серебряный век, эмиграция, вдруг появилось страшное увлечение этим советским проектом. И я вам должна сказать, что тогда я как-то напряглась. И одновременно в 2012–13 году было обсуждение в журнале "Знамя", был разговор о Советском Союзе, и выступал уже покойный Борис Дубин, человек, на мой взгляд, прекрасный, умерший в 2014 году, он просто не выдержал этого несчастья, он был человек очень открытый и переживающий. И он мне однажды сказал: "Наташа, я не могу читать ваши книги, я человек, выросший на постоянном отторжении всего советского, потому что у меня отнимали западную культуру, я переводчик".
И потом мы с ним встретились перед его уходом, и он мне сказал: "Вы понимаете, я был очень неправ, потому что мы должны были изучать в себе это советское для того, чтобы справиться с ним, а мы его отторгли. Мы, чистая интеллигентная публика, отодвинули это, потому что нам многие годы было неприятно. И я был неправ по отношению к вашим занятиям".
Я тогда поняла еще очень мучительную для себя вещь, я это тоже сказала на этом обсуждении. Здесь сидят люди, которые тоже принадлежат к шестидесятникам. Для нас это опоэтизированное, прекрасное время, мы очень любили все эти фильмы и книги, но мне кажется, что это поколение не выполнило своей главной задачи, оно ее не довело до конца – по реабилитации, по проблеме памяти, по проблеме этой боли, которая теперь падает на наши плечи. Если поколение не выполняет задачи, оно взваливает это не другое поколение.
Но я не могла вообразить, что то, что происходит сейчас, уже летит из прошлого ответ несделанных усилий, несделанной работы, потому то эти 20–25 лет, которые у нас были, люди жили очень комфортно и расслабленно. Отдельные кассандры кричали, но их называли демшизой, они чувствовали опасность того, что может произойти. Когда власть принадлежит людям из органов, она порочна, неумела, она абсолютно про другое. Когда мы стали видеть, что губернаторами, всеми начальниками ставят людей оттуда, из органов, стало понятно, что это разрушение работы, это стало все время проявляться. Но до этого было всем мало дела, кроме отдельных безумцев. Поэтому мы тут должны абсолютно точно сказать, что виноваты тут все.
Я писала про то, что сейчас мы остались каждый один на один с вопросом к себе и с вопросом о том, что мы вообще можем сейчас делать. Я для себя понимаю задачу так, что я должна максимально помогать людям, которые оказались жертвами, я на стороне Украины абсолютно, и для меня сейчас важно, чтобы эти люди как-то спасались.
Вторая задача – каким-то образом начать подымать остатки той культуры, если она останется, если останутся люди там. Это сейчас проблема не российско-украинская, мы столкнулись сейчас с изменением всего мирового порядка, мир сейчас будет меняться. Мир после Второй мировой войны жил достаточно благополучно, имея эту прививку от ужасов Второй мировой, но он как-то почувствовал, особенно в 1970–80-е годы, что он расслабился, он стал уходить в какие-то правые идеи, в очень опасные играть игры. И этот человек, который пришел в России к власти, он всех в этом смысле посчитал, он за всеми приглядывал, он нашел вот эту слабину – благополучие и в европейском, и во всем этом мире, он его покупал, оглаживал.
Мир столкнулся с абсолютно новым вызовом: от одного человека может зависеть судьба человечества
Но суть в том, что придется меняться всему миру, мир столкнулся с абсолютно новым вызовом, который состоит в том, что от одного человека может зависеть судьба человечества. И мир должен к этому отнестись очень серьезно, ему придется жертвовать благополучием, вот в чем печаль-то. И то, что я сейчас наблюдаю, это страх потерять благополучие. Но можно потерять все, если сейчас не собраться всем с мыслями, с ощущением того, что так дальше не может быть, люди должны думать не о материальном, а о духовном, люди должны искать новые смыслы для существования мира – религиозные, гуманитарные, какие угодно. И за них придется платить, потому что всем казалось, что можно это делать абсолютно легко, ну, помочь кому-то, ну, дать денюжки, но ничего не отдавая всерьез. Свобода – это такая странная штука, что каждое поколение должно за эту свободу что-то жертвовать.
Здесь что-то такое сейчас повернулось огромное, что до конца еще понять нельзя, но то, что повернулось, становится понятно очень многим. Сейчас запускается какая-то новая история всей земли, как мне кажется. Это столкновение старого, прежнего мира с каким-то непонятным новым миром, который должен прийти.
Иван Толстой: Если агрессивность советской и российской политики лежала всегда на поверхности (ее ведь очень умело гримировали, и подавляющее большинство нашего общества, и российское общество спокойно не замечало этой агрессии), то теперь эта агрессия не просто вылезла наружу, она поменяла свой вектор уже неприкрыто, больше нет фиговых листочков, Россия оказалась чудовищным агрессором, совершенно бесшабашным. Сможет ли осознать российское общество, что оно – агрессор? Ведь русский человек всегда себя воспринимал жертвой. Это евреи виноваты, кавказцы, американцы, инопланетяне, но только не мы. А теперь – мы. Вот это будет принято обществом? Вы верите в это?
Наталья Громова: Видимо, до конца не понимает никто, что у нас в России огромное количество людей считает, что они сражаются не с украинцами, они сражаются с НАТО и с Америкой, которые хотят захватить весь мир. Вы понимаете, что в головах этих несчастных людей? Многие не смотрели этот страшный телевизор, мы хихикали и говорили, что там несут какую-то нескончаемую пургу, но эта пурга накрыла огромное количество населения. Если вы почитаете хоть какой-то кусок страшного прилепинского текста, создателя "русского мира", они – рыцари этой идеи борьбы с "гейропой", с этой отвратительной западной цивилизацией, с этим отвратительным американским коронавирусом, который придумали враги.
Сам вид агрессии выдает темноту и дикость, каменный век в головах этих людей, в том-то вся и драма! Если бы возник хоть какой-то ужас от того, что у нас там гибнут дети. Даже в чеченскую войну женщины вставали, плакали, искали своих детей, боялись. Произошла какая-то тяжелейшая подмена у людей в головах, им ничего не жаль. Я не знаю, что это такое. Разумеется, какая-то часть общества, 10–20 процентов, понимают. Слава богу, я сегодня прочла письмо из калмыцкого университета, разумеется, в каждом городе есть какой-то срез общества, который в ужасе, но что делать со всеми остальными? Они говорят: ну да, мы будем свою картошку есть, да нам все равно, да запретите у нас хоть все, мы вернемся к своей дикой жизни, но мы покажем этим америкосам, пиндосам, мы им там показываем, это бедные украинцы, их просто там заставляют воевать. Степень подмены таких масштабов, что это даже похуже, чем оболванивание немецкого народа во время войны. Это очень страшно.
Степень отчаяния моего именно в этом. Потому что непонятно, что дальше с этим делать. Когда мы говорим о Блоке, о Достоевском, это отдельная планета, отдельные миры. Более того, я поняла, что для огромного количества людей, даже для интеллектуалов, литература, стихи – это просто такие сладкие, приятные сказки, удовольствие, это гладит их интеллект, но это не строит их душу, их характер, не определяет их поступки. Я работаю в Литературном музее, вы думаете, что-то меняется там, кому-то от этого там больно или горячо? Хотя каждый день произносятся такие слова на экскурсиях, люди это рассказывают, но это не меняет ничего.
Когда я говорю, что нужно гражданское неповиновение, не надо больше ходить на работу, на меня смотрят как на сумасшедшую
Когда я говорю, что нужно гражданское неповиновение, не надо больше ходить на работу, нельзя ходить на работу, на меня смотрят как на сумасшедшую.
Сейчас люди каждый день чего-то лишаются привычного, возможно, это будет приводить к какому-то отрезвлению, но цена за это платится немыслимая. Поэтому у меня нет здесь никаких оптимистических прогнозов по воскрешению этого прекрасного своего несчастного народа-"богоносца".
Иван Толстой: Кто бежит сейчас из России и, самое главное, куда бежать?
Наталья Громова: Проблема в том, что бежать очень сложно, мы еще в одной точке катастрофы оказались, потому что после коронавируса половина стран оказались закрыты, у всех сгорели шенгенские визы за эти годы, мы заперты с двух сторон. Тем, кому удалось выскочить из этой ситуации, потому что все-таки страна не как при советской власти, не закрыта полностью, есть Стамбул, есть эти республики, которые для нас то открываются, то закрываются. Бегут люди абсолютно с моим же ощущением, у которых есть совесть, рефлексия, очень много тех, кто боится, что детей заберут в армию, очень многие бегут от преследований.
Потому что есть еще такая деталь, что вся эта организация сейчас очень оживилась не только потому, что она репрессивная, а еще и потому, что, как я когда-то писала, в 1941 году НКВД завело бешеное количество дел, потому что они боялись попасть на фронт. Вот они сейчас должны показать важность своей работы, поэтому они стали просто агрессивны, они сидят в подъездах, они поджидают, мне это рассказывали десятки людей (просто люди, которые выходили на митинги), они сидят и ждут их в подъездах. Сутками могут сидеть.
Убежать оттуда – это безусловное благо. Куда бежать – непонятно, у нас у всех уничтожены карты, все, что мы заработали, обнулилось еще и с точки зрения Европы, карты не действуют. То есть мы превратились в группу абсолютно нищих, которых выбросили и оттуда, и они оказались и здесь не нужны. Это тоже своя интеллектуальная, гуманитарная катастрофа, которая еще никем не осознана, потому что прошло мало времени.
Мы сейчас как евреи, которые согнаны и рассеяны по всему свету
Тут бы, конечно, какого-то Масарика, как в 1925 году, который подхватил бы, помог бы. Возможно, это возникнет, но это всегда проблема времени, мы же не знаем, на сколько времени растянется этот страшный сюжет, который происходит на наших глазах. Поэтому я бы мечтала о том, чтобы возникали каике-то центры силы для того, чтобы мы могли вместе работать на это совместное культурное дело, я ищу сейчас эти точки приложения. Другого пути у нас нет, нам надо создавать хоть небесную, хоть безземельную Россию, как народу Израиля. Мы сейчас как евреи, которые согнаны и рассеяны по всему свету.
Иван Толстой: То есть Россию в изгнании, но без всякой иронии уже.
Наталья Громова: Безусловно. Причем это не та понятная эмиграция, когда люди уезжали, собирали свои книги, вещи, а это именно ситуация гражданской войны, когда человек бежит просто с одной сумкой и запасом белья. Когда бежит человек, у которого книги, архивы, бумаги, понятно, что это такое, это какой-то отрезанный кусок, который потом тоже скажется в культуре. Слава богу, что у нас есть какие-то флешки, мы что-то можем нести в электронном виде. Но все равно это ужасно. У меня лежат папки с огромным количеством архивов 1930–40–50-х годов, дай бог это останется целым. Я уж не говорю про книги, которые должны были быть написаны.
Иван Толстой: Помните, как эмигранты-историки 1920–30-х годов жаловались на перемену участи своей, они говорили: мы работали с документами, библиотеками, бумагами прошлого, а теперь у нас нет в руках ничего, и нам остается только философствовать и осмыслять.
Наталья Громова: Да, безусловно.
Иван Толстой: Так что мой вопрос "куда бежать?" был не географически, а метафизически заточенный.
Наталья Громова: Мы должны к этому вернуться через пару недель, потому что мы сейчас действительно находимся в точке такого взрыва, где трудно оглядеться и сказать: мне надо туда. Нет, мы не знаем сейчас ничего.
Иван Толстой: Ситуация неопределенности, с вашей точки зрения, надолго?
Наталья Громова: В той точке, в которой я уезжала, мне казалось, что она не может быть долгой, было видно, что корабль несет на рифы и все падает, но это такая многофакторная история. Поэтому сейчас я уже чувствую, что дело может дотянуться и до лета, и даже до конца 2022 года. От очень многого зависит, вы же понимаете, что все в руках одного человека, от его жизни, от его здоровья, от товарищей, которые его окружают. Мы все рассматриваем, конечно, что дальше. Но, по моим знаниям истории, любая власть в России, которая сменяется, ей для того, чтобы удержаться, надо отрицать прежнюю. Это было даже с царями. Будущий царь как бы снимал, отрицал предыдущего, в этом есть некий шанс на облегчение. Но в целом мы видим, что этот корабль летит на рифы, и главное, чтобы он с собой не утянул всех, кого возможно. Я все свои прогнозы сейчас отметаю, потому что это всегда какая-то надежда, а я сейчас живу без надежды, как экзистенциалисты, как Лев Исаакович Шестов, о котором я писала, он к этому и призывал. "Безнадежность – высшая надежда", – говорил он.
Иван Толстой: И очень хочется, чтобы российское общество будущее не отдало снова Россию в руки каких-нибудь "экономистов".
Наталья Громова: Да.