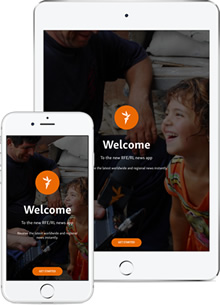В документальном фильме Алены ван дер Хорст "Поверни тело к солнцу" жительница Нидерландов Сана, родом из СССР, изучает историю своей семьи. Ее родители Сандар и Тагира познакомились по переписке, когда он отбывал лагерный срок за "предательство": будущей жене он посылал изящные письма, стихи, рисунки, сделанные кустарными чернилами. Сандар попал в адскую ловушку истории, оказавшись между двух диктаторов: служил в Красной армии, в 1943 году попал в немецкий плен, оттуда – на западный фронт как "доброволец"; в Нормандии сбежал к американцам, был в Париже, потом в английском лагере. На родине его ждали каторжные работы. Сандара выпустили из ГУЛАГа по амнистии в 1955-м, после смерти Сталина, – в общей сложности он 14 лет не распоряжался своей судьбой. Как и у миллионов его сограждан, у Сандара украли кусок жизни, а у его семьи – память об этом: тех военнопленных, кто остался жив к амнистии, выселили за 101-й километр, и в официальной истории этих людей будто не существовало. Алена ван дер Хорст, тоже уроженка России, вместе со своей героиней проводит работу по возвращению и освобождению этой памяти.
– В "Поверни тело к солнцу" вы рассказываете историю того, как появилась семья вашей героини Саны, но почти не говорите о том, как жили ее родители – Сандар и Тагира – после его возвращения из лагеря. Как они сами справлялись с прошлым, которое в фильме переоткрывает для себя Сана?
Он потерял 14 лет своей жизни – самые яркие годы
– Как говорила Тагира, поэзия стала прозой. Сандар много работал, нигде себя не мог найти. Он потерял 14 лет своей жизни – самые яркие годы, когда человек получает образование, кем-то становится. У него всегда было чувство, что он не может объяснить себя, что он должен стыдиться того, что был военнопленным. Об этом было опасно говорить. Он не смог себя реализовать, хотя был творческим человеком – это видно из его стихов, рисунков, которые он делал [в лагере]. Сандар прожил довольно долго, хотя из лагерей вышел с очень плохим здоровьем. У него были припадки эпилепсии, больные легкие… целый букет болезней. Они с Тагирой не сразу стали заводить детей, чтобы он пришел в себя. Они так и жили в Таллине, потому что после ГУЛАГа ему было нельзя жить в крупных городах.
– В вашем фильме много неожиданного архивного материала, есть поразительные кадры – например, переправа через реку, когда совершенно голые мужчины катят пушку под гору. Какими источниками вы пользовались?
Тела, люди, судьбы – как глина в руках диктаторов
– Именно эти кадры – это советские съемки из архива в Красногорске, с ними мне помогла Марина Дроздова. Но начиналось все не с этого. Когда я начинала делать фильм, то обратилась к своему голландскому консультанту по архивам за кадрами с военнопленными. Он сразу сказал: "О, у меня есть кое-что для тебя". В 1942-м, кажется, году [немецкая фабрика] AGFA сделала первую цветную 16-мм кинопленку. Они дали ее офицерам, которые отправились на операцию "Барбаросса", чтобы те снимали по дороге. Только в последние десять лет эти кадры стали всплывать – пленки остались у офицеров, публиковать их они, конечно, не хотели, но в какой-то момент внуки стали находить их на чердаках. В этих съемках есть ощущение непосредственности. Эти люди не были профессионалами и снимали, ну, как все снимают home movie. Вот девушка, вот стог сена, вот цапля полетела, а вот что-то на нас идет – а, военнопленные на нас идут. Некоторые неплохо снимали. Первый кадр, который я увидела, и его вставила в фильм, – военнопленные катят телегу, в которой тоже лежит военнопленный… Когда я увидела, у меня был шок: неужели это Вторая мировая война? Выглядит как какое-то средневековье. Цвет, тоны глубоко повлияли на меня. Я поняла, что хочу, чтобы война в этом фильме была в цвете.
– В фильме есть и кадры из официальной хроники, которые вам было нужно отделить от пропагандистской интенции. Как вы работали с такими источниками?
– Нацисты много снимали военнопленных, чтобы показать, что они унтерменши, что они грязные… в общем, унизить. Но я так работала с материалом, чтобы можно было его переприсвоить. Я стала замедлять, рассматривать, чтобы хорошо понять, что я вижу, что происходит в изображении. На меня всегда производит сильное впечатление, когда кто-то из кадра смотрит на меня. Мы смотрим на прошлое, прошлое смотрит на нас… Этот процесс всматривания в то, что именно происходит в коротком отрывке на 10 секунд, я старалась передать и зрителю. Поэтому я замедляю, зумирую хронику. Очень часто в кино архивный материал используют просто как иллюстрацию нарратива – у меня от этого всегда ощущение, что я чего-то недоувидела.
Я долго мучилась вопросом о том, как показать голод и как показать ГУЛАГ – его, конечно, никто не снимал, кроме официальной пропаганды. Для каждого момента хроники я находила какой-то принцип. В ГУЛАГе люди работали до смерти, часто это была бессмысленная работа – сизифов труд. Чтобы показать это, я повторяла одни и те же кадры – например, момент, когда рабочие валят дерево, будто они упорно выполняют одно и то же действие без результата. Так я пыталась переосмыслить пропаганду, которую снимали в лагерях.
– Мне показалось, что ваш метод приближается к тому, как работает память. Государство создает монополию на память в виде большой непротиворечивой картины, а воспоминания устроены именно так, как сделано в фильме, – мы запоминаем детали, отдельные моменты, образы.
Его судьба – судьба всех военнопленных
– Да, я согласна. У меня было еще несколько таких принципов. Когда я только начала общаться с Саной для работы над фильмом, она мне сказала: "Знаешь, когда я смотрю кино, где есть хроника с военнопленными, я ищу своего отца в этих лицах". После этого я тоже стала всматриваться: вдруг его где-то сняли? Он же был в журнале Yank, который Сана нашла в музее в Нормандии. Это помогло мне понять, как устроить фильм с режиссерской точки зрения. В начале работы у меня было всего 15–20 фотографий, мемуары, письма, интервью в Yank – и всё. Как из этого слепить фильм? Я подумала, что надо сделать так, чтобы зрители тоже все время приглядывались: вдруг это Сандар? Как говорит Сана, он во всех лицах – в конечном счете становится неважно, он это или не он, его судьба – судьба всех военнопленных.
И второй принцип – показать события так, как он мог бы их видеть. Обычно когда мы видим хронику D-Day, это съемки американцев, как они высаживаются на пляжи. А мне нужно было показать высадку союзников с немецкой стороны. У меня было мало материала, и я использовала кадры, которые не привязаны ни к какому месту или событию. Кадры, на которых только видно, как что-то идет издалека, какие-то взрывы – непонятно что, где, как… Так это мог видеть Сандар.
– Насколько вам важен мотив тела? Оно и в названии фильма, и в цитатах из писем, и вы акцентируете физиологию в съемках не только военнопленных, но и в кадрах со Сталиным и Гитлером.
Тебя накормили, и ты чуть-чуть можешь стать человеком
– Да, я думаю, что это всё про тело. Не зря столько кадров, где солдаты не в форме, а обнаженные. В форме – это понятно: ты солдат, воюешь. Но я хотела увидеть человеческую хрупкость. Они все время испытывали голод, а его очень сложно показать. Только через съемки, как военнопленные едят, когда у них есть кусок хлеба и суп. Тебя накормили, и ты чуть-чуть можешь стать человеком.
Конечно, я сама не переживала войну, и очень сложно представить, как это. Но мне кажется, в таких условиях происходит деперсонализация. Защитный механизм, чтобы выжить, – будто ты не ты, что все это делает кто-то другой. Может быть, благодаря этому у Сандара после всего пережитого все же были семья, дети, любовь, хотя и сохранились какие-то особенности. Военнопленные попали в мясорубку между Сталиным и Гитлером. Тела, люди, судьбы – как глина в руках диктаторов.
– В сценах, где пленные едят, я вспоминал похожие кадры из последней работы Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Что вы думаете о том, как он работает с архивом?
– Я думаю, мы с ним противоположности. Лозница полностью делает звук, и таким образом происходит переприсвоение архива. Но он направляет внимание зрителя. А у меня больше недосказанности, мне интересно находиться внутри архива и менять его изнутри. Там есть сцена с убегающим солдатом, когда Сана говорит [за кадром]: "Беги, беги", но помехи изображения, пиксели как будто тянут его обратно. Будто сам материал ему сопротивляется, останавливает его. Для меня очень важно использовать фактурность архива. Другой пример этого: некоторые кадры, которые были ч/б, мы раскрасили с помощью алгоритма. Алгоритм иногда делает ошибки, ему что-то мерещится, и так тоже проявляется фактура. У архива есть качество фантасмагории, страшного сна. Поэтому у меня, в отличие от Лозницы, архив субъективен: что вижу я, что видит Сана, что мог видеть ее отец.
– В англоязычном интервью для фестиваля IDFA вы говорите о том, что в последнее время стало больше фильмов о Второй мировой, потому что мы стали чувствовать себя более уязвимыми. Вы имели в виду европейцев?
– Я в первую очередь говорила про своих коллег из Голландии, которые тоже стали активнее заниматься этой темой. Казалось бы, почему Вторая мировая, что еще мы не знаем?..
– Тот разговор был записан в ноябре 2021 года, и теперь можно видеть, что вы были совершенно правы в предчувствиях. В то же время в российской культуре за последние годы Вторая мировая вообще стала доминирующей темой, причем в официальной ура-патриотической интерпретации. Вы следили за этим процессом?
– Я думаю, в российском обществе война – это непроработанная тема. Я понимаю, что во время войны все черно-белое. Но потом проходит время, и второе-третье поколение уже видит больше серых зон: где добро, где зло, кто кого предал? Можно ли предать родину, если у тебя нет выбора? Мой фильм об этих вопросах. Сана там говорит, что в СССР были только герои, а инвалидов не было. Это до сих пор так, и отчасти поддержка нынешней войны [внутри России] – оттого, что Россия не изучила больные точки своей памяти. Те же военнопленные – эта тема до сих пор плохо изучена. Из 5,7 миллиона советских военнопленных 3,7 – погибли: расстреляны, умерли от голода и болезней. Остальные, кто не смог убежать, оказались в ГУЛАГе. В 1955-м они получили амнистию, только в 2000-х часть из них реабилитировали. В России нет большого памятника военнопленным. Сколько у этих 3,7 миллиона жен, сестер, братьев, детей, внуков? Это десятки миллионов человек, чью семью затронула эта история.
– Мне кажется важным, что в этой теме соединяются и война, и ГУЛАГ – две самые болезненных темы в российской истории, причем в современной РФ официальная память о войне используется для вытеснения памяти о сталинском терроре.
Когда говорят о том, как Россия пострадала, я часто думаю: а нужны ли были такие потери?
– Я думаю, речь идет о коллективной травме. В Голландии это есть тоже: только недавно мы начали осмыслять наше колониальное прошлое. Думаю, что должен быть официальный день памяти для всех голландцев, такой жест примирения был бы очень важен. И надо, чтобы был такой день [в России] в память о военнопленных, чтобы он был официальным. Когда говорят о том, как Россия пострадала, я часто думаю: а нужны ли были такие потери? Может быть, и с меньшими потерями могли бы победить? Этот вопрос, насколько я понимаю, не поднимается. Впрочем, сейчас есть ощущение, что нынешняя война – что-то настолько большое, что эти вопросы [отошли на второй план].
– Но ведь это связанные вещи: и отношение Сталина к военнопленным, и террор – все это исходит из той же имперской логики, от которой Россия так и не избавилась.
– Да. Например, у нацистов были и другие военнопленные – английские, французские. Из них погибли только 1,4%, из советских – 57%. Сталин не подписал Женевскую конвенцию, его не интересовало отношение к военнопленным. Поэтому им не давали пайки, их не навещал Красный Крест. В первую очередь они жертвы Гитлера, который считал их недочеловеками, но и сталинское отношение к своим людям тоже способствовало этому.