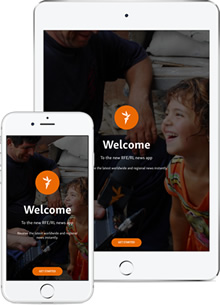"В русском, и в английском, и в других языках есть поговорка: "Собака лает, а караван идет" — The dog barks, but the caravan goes on. Ее трактуют так: движению вперед каравана ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах: они лают, но ни на что не влияют. А я недавно узнал, что смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно, только когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании".
Цитата из Нобелевской речи главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, приведенная в документальном фильме "О караване и собаках", объясняет его название. Весной 2024 года фильм был показан на кинофестивалях в Дании, Чехии и других странах.
Режиссер Аскольд Куров и его коллега, названный в титрах "Аноним 1", предлагают хронику переломного периода, когда российские власти перед войной и в первые ее недели уничтожали правозащитные организации и независимую прессу. Сперва был закрыт "Мемориал", потом, после 24 февраля 2022 года, сделали невозможной работу "Эха Москвы", "Новой газеты" и телеканала "Дождь".
Фильм "О караване и собаках" расскажет зрителям, как стремительно были уничтожены институции, существовавшие десятилетиями. "Мемориал" пытался отстаивать свои права через суд, но в его офис врываются люди в масках, устраивают погром под видом обыска и рисуют на стенах букву Z. Еще несколько дней назад журналисты обсуждали, как работать в условиях военной цензуры и что можно писать и говорить, а что нельзя, но вот уже запрещено абсолютно всё, приходится закрывать сайт, останавливать верстку, уходить из эфира и думать об эмиграции.
В 2019 году вышел документальный фильм Аскольда Курова о "Новой газете", и разговор с режиссером я начал с вопроса о том, можно ли считать "О караване и собаках" своего рода печальным сиквелом.
Для власти было очень важно заставить молчать всех, кто продолжал называть вещи своими именами
– Это получилось не специально, я не планировал продолжение фильма о "Новой газете", – говорит Аскольд Куров. – Мы с моим соавтором задумывали фильм к столетию "философского парохода". В 1922 году советское правительство выслало неугодных философов, писателей, ученых, посадив их на пароход, а сто лет спустя история повторилась. С помощью закона об "иностранных агентах" власть делает невозможной работу для этих людей в России, выдавливает их из страны, заставляет уезжать. Мы начали снимать в октябре 2021 года и в самых страшных фантазиях не могли представить, чем это обернется. Мы искали наших героев среди разных "иностранных агентов" по всей России. Это могли быть иркутские библиофилы, тубалары или солдатские матери, отдельные журналисты, которые признаны "иноагентами". В том числе были съемки на заседании Верховного суда по ликвидации "Мемориала". Совершенно невообразимое событие, непредставимо было, что это может случиться. Потом, после 24 февраля, стало понятно, что ликвидация "Мемориала" была подготовкой к войне. И стало понятно, что обязательно нужно снимать и "Новую газету", и "Дождь", и "Эхо Москвы", потому что для власти было очень важно заставить молчать всех, кто продолжал называть вещи своими именами.
– Алексей Венедиктов говорит в вашем фильме, что аудитория "Эха Москвы", "Дождя" и "Новой газеты" – это люди, которые потом будут писать историю России. Тоже объяснение, почему выбраны именно эти медиа.
– Да, это стало центром этой истории. Когда мы задумывали фильм, мы шутили о том, что как бы не пришлось нам самим уезжать. Возможно, последним кадром станет удаляющийся берег России, сами окажемся на этом пароходе...
– Так оно и вышло.
– Для меня – да, для моего соавтора – нет.
– Вы давно уехали?
– В марте 2022 года, через две недели после начала войны.
– Почему же вы не показываете в фильме, как воссоздаются "Новая газета", "Дождь", "Эхо Москвы" за границей? Это ведь интересная глава. Вы поставили точку на московской части, а дальше только объяснили титрами, что произошло.
– Мне кажется, что это другое кино. Мы продолжали снимать, как работает "Дождь" и "Новая газета Европа", но для этой истории точку нужно было поставить именно там.
– И это точка стоит так, что получился фильм о том, что все погибло и надежды нет. Вы сами так воспринимаете эту историю?
Произошел раскол, как сто лет назад, внутри общества
– Конечно, погибло не все. Понятно, что эти СМИ продолжают работать, и те, кто уехал, продолжают взаимодействовать с аудиторией. И оставшиеся в России журналисты, несмотря на цензуру, находят способы говорить правду, доносить важную информацию. Но, конечно, трагедия все равно произошла. Во-первых, сама война, полномасштабное вторжение. Еще очень важно, что произошел раскол, как сто лет назад, внутри общества. Два года назад казалось, что в каком-то обозримом будущем все закончится, мы сможем вернуться и продолжить там, а сейчас у меня есть ощущение, что пора уже принять то, что я уехал, и начинать жизнь здесь. Я боюсь, что это действительно может быть так же, как сто лет назад. Мне кажется, что все это очень надолго, может быть, не так надолго, как тогда, но все равно раскол произошел.
– Сейчас обсуждают пост Бориса Акунина: он пишет, что Россия разделилась на две части, как сто лет назад, и одна часть отплывает от другой.
– На меня это произвело впечатление, я сейчас об этом думаю. У него сравнение с расколовшейся льдиной – мы продолжаем перепрыгивать с льдины на льдину, но скоро этот пролом будет настолько большим, что будет невозможно.
– Но вы пока не чувствуете себя полноценным эмигрантом?
– Нет, пока не чувствую.
– Муратов говорит в вашем фильме, что только антивоенное движение внутри России способно спасти жизнь на планете. Тут, конечно, слышна ирония, но говорит он это вполне обдуманно. Согласны ли вы с его словами?
Власть очень хорошо передает самое главное сообщение – сообщение о страхе, который должны испытывать жители России
– Тогда еще была надежда, что это движение возможно. Я помню призыв Навального, который говорил, что, если ради того, чтобы остановить войну, мы должны забить собой все российские тюрьмы, это небольшая цена. Но так не получилось. Если бы миллионы вышли на улицу, протестовали против войны и шли бы в тюрьмы, возможно, что-то изменилось бы. Я думаю, что власть очень тонко чувствует состояние общества. Если бы они чувствовали, что эти миллионы могут выйти, то они бы вели себя иначе, но они были уверены, что такого масштабного протеста не будет, поэтому все и начали.
– В фильме Кирилл Мартынов едет в такси, уже твердо решив, что эмигрирует, а вокруг веселая Москва, хотя идет война, беспечные люди собираются на премьеру в театр "Современник". И такое ощущение, что какое-то ненужное меньшинство отторгнуто этим огромным миром, который спокойно относится к тому, что все эти люди вычеркнуты.
– Он ехал в аэропорт, теперь не может вернуться, конечно. Да, у меня есть ощущение, что это меньшинство. Мне кажется, что власть очень хорошо передает самое главное сообщение – сообщение о страхе, который должны испытывать жители России. Потому что все эти показательные репрессии, закон об "иноагентах" главной задачей имеют внушить этот страх. Часто из-за этого страха люди не хотят даже ничего знать, вдумываться, пытаться понять, что на самом деле происходит, а просто готовы принять ту позицию, которую им предлагает пропаганда, продолжают жить и делать вид, что ничего не произошло.
– При этом публика часто требует от оппозиционеров сверхъестественной смелости. Вы снимали, как в день вынужденного закрытия "Новой газеты" журналисты читают комментарии на сайте, и там один за другим идут упреки в трусости: почему Муратов не назвал Путина убийцей в Нобелевской речи и так далее.
– Да. Особенно, конечно, умиляет, когда это пишут люди, которые давно уехали из России и находятся в совершенно безопасной ситуации. Навальный имел право призывать людей заполнить собой тюрьмы, потому что сам находился в тюрьме и сам вернулся в Россию, хотя у него был выбор. Мне кажется, что призывать к жертве можно, только если ты сам на эту жертву готов.
– Еще один важный эпизод фильма – Нобелевская речь Яна Рачинского. Он высказывается против концепции коллективной или национальной вины. Можно сказать, что и фильм тоже – это высказывание против этой концепции, потому что абсолютно все герои сопротивляются диктатуре.
Я виноват в том, что я недостаточно протестовал, недостаточно сопротивлялся, недостаточно говорил
– Мне близка концепция ответственности. Рачинский говорит о том, что правовое сознание отвергает идею коллективной вины, – это не значит, что отвергает ответственность. Просто быть по умолчанию виновным в чем-то – это действительно странно, но быть ответственным за свою страну, мне кажется, правильно. Я лично чувствую свою ответственность за то, что произошло, потому что я мало сделал. Нужно было сделать все возможное, а я этого не сделал. Я говорю про себя, я не готов говорить за других: лично я виноват в том, что недостаточно протестовал, недостаточно сопротивлялся, недостаточно говорил, можно было больше.
– Я думаю, вам не в чем себя упрекнуть, потому что вы сняли несколько документальных фильмов, которые можно назвать акциями сопротивления. Помимо фильма о "Новой газете", у вас был фильм "Дети 404" о ЛГБТ-подростках, был фильм об Олеге Сенцове, и все ваши фильмы, разумеется, не могли попасть ни в российский прокат, ни на телевидение. Раз уж я об этом вспомнил, спрошу: следите ли вы за судьбой героев предыдущих фильмов? В частности, "Дети 404" – это очень важная тема в связи с тем, что сейчас репрессии против ЛГБТ нарастают с каждым днем, арестовывают владельцев клубов и объявляют их экстремистами. Что произошло с вашими героями, с Еленой Климовой, в частности? Существует ли этот проект в каком-то виде?
– Да, проект существует. Елена Климова ушла из проекта несколько лет назад, она занялась фемактивизмом, писала книги для подростков. Последний раз я с ней виделся в Екатеринбурге в Ельцин Центре – как раз на показе фильма про "Новую газету", это было в 2019 году. Один из главных героев фильма, Джастин Романов, уехал в Канаду. Он получил образование, встретил любимого человека, они поженились, сейчас живут вместе. Еще один из героев недавно мне написал – он был в Беларуси, ему пришлось бежать из страны, потому что там начались политические преследования. Еще один герой несколько месяцев назад просил рекомендательное письмо для получения визы, ему это помогло, сейчас в Германии живет. К сожалению, большая часть наших героев, тогдашних подростков, вынуждены были уехать из России и из Беларуси.
– Но это к лучшему для них уж точно. Не к лучшему для страны, но к лучшему для них.
– Да, я тоже так думаю.
– А с Олегом Сенцовым поддерживаете отношения? Я читал, что он был ранен на фронте, даже не один раз. Что с ним сейчас?
Я сейчас не могу вернуться в Россию, не уверен, что это безопасно
– Да, он действительно на фронте. Мы иногда с ним общаемся, когда он возвращается в короткий отпуск с передовой. Он не рассказывает подробности, но действительно он пережил несколько контузий, ранения. Он женился, у него родился прекрасный сын. Я надеюсь, что все будет хорошо.
– Все сюжеты, над которыми вы работали, можно продолжать новыми фильмами. Фильм о том, что случилось с героями "Детей 404", был бы очень интересен, и фильм об Олеге Сенцове на фронте. И теперь страшное продолжение сюжета о "Мемориале" – судьба Олега Орлова, который находится в тюрьме. Наконец, о чем мы уже говорили – как возрождаются российские СМИ в Европе. Не хотите продолжить какую-нибудь из этих тем?
– Пока думаю о следующих проектах, не готов еще озвучить идею. Но мы недавно с Павлом Лопаревым, с которым снимали "Дети 404", обсуждали, что прошло ровно 10 лет с момента выхода фильма, интересно и важно сейчас проследить судьбу наших героев и, возможно, снять продолжение.
– И вообще обо всем, что происходит с ЛГБТ, – кампания травли принимает все более страшные черты. Кто, кроме вас, может это сделать?
– К сожалению, я сейчас не могу вернуться в Россию, не уверен, что это безопасно. Еще есть фильм "Добро пожаловать в Чечню" про охоту на геев в Чечне, который мы снимали в 2017 году. То, что тогда происходило в Чечне, казалось диким, варварским, непредставимым, но я боюсь, что это на самом деле будущее для России.
– Ваш сорежиссер обозначен как "Аноним 1", и есть еще в титрах Анонимы 2, 3, 4. Почему вы приняли такое решение? Почему не псевдонимы? Думаете, что этот фильм настолько опасен для тех, кто хоть какое-то участие принимал в его съемках?
Даже такой фильм о том, что произошло два года назад, все равно может стать причиной уголовного преследования
– Да, вне России, хотя мы читаем новости, нам сложно представить, насколько действительно опасны такие вроде бы вполне безобидные вещи. Причиной ареста Олега Орлова, которого вы упомянули, стала его статья, где он сравнил российский тоталитаризм с фашистским. Мы этот фильм очень тщательно проверяли с юристами, чтобы никому из героев, которые в фильме появляются и кто остается до сих пор в России, фильм не навредил, чтобы никто, не дай бог, не наговорил себе на статью в этом фильме. В том числе, конечно, это риск для создателей. Боюсь, что даже такой фильм об уже известных событиях, о том, что произошло два года назад, все равно может стать причиной уголовного преследования, если не сегодня, то завтра. Мы использовали псевдонимы для того, чтобы было очевидно, что эти люди скрываются за этими обозначениями, пронумерованными анонимами.
– Вы сказали, что не чувствуете себя полноценным эмигрантом. Означает ли это, что вы скучаете по России и испытываете знаменитую русскую ностальгию?
– Нет, не скучаю. Возможно, потому что сейчас нет такой ситуации, когда сложно найти какой-то контакт с людьми. Для меня Россия – это прежде всего люди. Я скучаю по друзьям. Поскольку нет пока "железного занавеса", есть возможность видеться, общаться, созваниваться по видеосвязи, то такой болезненной ностальгии я не ощущаю.
– Ваш фильм был показан сейчас на нескольких фестивалях, но при этом мы знаем, что многие фестивали отказываются от российских фильмов, в том числе независимых. Все, связанное с Россией, многим кажется токсичным. Испытывали ли вы какие-то сложности в этом отношении? Не преувеличены ли разговоры о кэнселинге русской культуры, который распространяется и на оппозиционные произведения?
С каждым днем становится сложнее снимать, даже уйдя в подполье
– Я думаю, что сейчас обратная происходит волна. Когда мы монтировали фильм, мы отдавали черновой вариант монтажа на разные фестивали, получали отказы. Не могу сказать с уверенностью, что это было связано с тем, что фильм о России. Я думал, что мы немножко опоздали, что это уже неактуально. Но в этом году фильм взяли сразу на несколько фестивалей, есть большой интерес. Очень интересные и важные дискуссии происходят со зрителями. Я сейчас вернулся из Гааги, где фестиваль был показан на фестивале Movies That Matter, и там был показ в центре для журналистов, который расположен в парламенте Нидерландов. Так что, мне кажется, прошла эта фаза неприятия, отторжения всего, что связано с Россией, неважно, имеют ли авторы связь с российской властью, Министерством культуры и так далее. Сейчас очень важно для людей не отвергать, а попытаться понять, что происходит. Я слышал мнение о том, что то, что показано в фильме, то, как власти расправляются с независимой прессой, уничтожают свободу слова, – это предостережение для любого общества, это в принципе может произойти везде. Необходимо постоянно думать о том, что свобода слова и демократия – это те ценности, которые не даются раз и навсегда, что их нужно защищать.
– Два года назад было ощущение, что независимое российское документальное кино просто погибло. Был фильм "Манифест", снятый режиссером, который скрылся под псевдонимом Энджи Винчито, а потом возникла пустота. И вот сейчас я вижу на фестивалях интереснейшие документальные фильмы из России – Queendom, "Сказка шамана", ваш фильм, на "Артдокфесте" было много нового. Такое впечатление, что, вопреки всему, независимое российское документальное кино оживает.
– К сожалению, я думаю, что это такой прощальный всплеск. Потому что и Queendom, и "Сказка шамана", и наш фильм были сняты или до войны, или в самом начале. Общаясь со своими коллегами, которые остаются в России, я понимаю, что с каждым днем становится сложнее снимать, даже уйдя в подполье. Не только небезопасно с камерой появиться на улице, потому что тебя может полиция задержать, но и люди становятся настолько напуганными, осторожными, что боятся на камеру рассказывать, что с ними происходит. Становится все сложнее и сложнее. Я бы еще вспомнил фильмы, которые появляются в YouTube: очень хороший фильм Лошака "Пентагон" и фильмы, которые продолжает снимать "Новая газета Европа". Пока что-то удается, но я боюсь, что это становится практически невозможным.