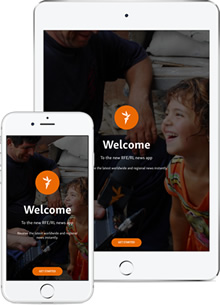Фильм Михаила Брашинского "Волны" о человеке, ушедшем в лес и оказавшемся в теслианской секте, стал самым ярким событием фестиваля "Окно в Европу" в Выборге – главного, в отсутствие "Кинотавра", смотра российского кино. Михаил Брашинский рассказал Радио Свобода о фильме и своей концепции кинопартизанства.
– Есть ли у тебя опыт общения с сектантами?
– С сектами в реальной жизни я никогда не сталкивался, даже близко. Мне кажется, что автобиографизм наших трудов – а всё, что мы можем, я думаю, – это рассказывать о себе – работает не так. Не важно, что конкретно в действительности с тобой произошло. Ну, например, герой моего первого фильма, "Гололед" – самодовольный столичный гей, а второго, "Шопинг-тур", – сорокалетняя женщина, но всё равно в обоих случаях они – это я. "Мадам Бовари…", короче говоря.
– Какое потрясение или чувство стало отправной точкой для того, чтобы ты начал работать над “Волнами”?
Жить настолько невыносимо, что никакие объяснения не требуются
– Всё начиналось с образа человека, который уходит. Просто берёт и уходит из мира людей. Без конкретных мотивировок. Всё, достало. Он пытается покончить с собой, т. е. уйти "совсем" (это было в одной из версий сценария, но в готовом фильме этого нет), и когда у него не получается, он просто встаёт и уходит и начинает жить в лесу. Всё остальное – и секта, и любовь – пришло позднее. Сейчас в фильме есть сюжетное объяснение ухода героя, но в принципе и его не должно было бы быть. Жить настолько невыносимо, что никакие другие объяснения и не требуются.
– В какой мере, по-твоему, оправдан такой эскапизм – не важно, в случае горя утраты, переживания войны или какого-то личного краха?
– Вообще весь фильм, структурно, построен как исследование, что ли, вариантов ухода. Самоубийство – вариант ухода. Попытка "обнуления" в природе – вариант ухода. И секта тоже – вариант ухода. Слово "эскапизм" тут не очень подходит – много коннотаций, не относящихся к делу. И потом эскапизм – это как раз уход без ухода. А меня интересует не побег от действительности, а реальный уход. Возможен ли он? Герой оказывается в лесу, и поскольку он – нормальный городской человек, как ты и я, и выживать не умеет, он чуть не умирает там от голода-холода. Но когда он всё-таки находит – сначала возможность выжить, потом – мир какой-то – с собой, с природой – мир людей снова его настигает, не хочет отпускать. И вбрасывает в некое место, где практикуется другой, альтернативный вариант ухода. Мне хотелось, чтобы в определенный момент герою там понравилось, чтобы ему показалось, что люди в секте нашли ответ. Некий ответ, который ему найти не удалось. Так ли это на самом деле?
– Ты сам когда-то верил, что существуют способы ухода от действительности?
На те вопросы, которые волнуют меня, ответов в принципе нет
– Что значит верил? Я для этого, собственно, кино и снимаю, чтобы понять. Вера тут ни при чём. Ты пробуешь. Для меня это диалог. Если твои герои настоящие, они в какой-то момент оживают и начинают с тобой разговаривать, говорить тебе, что им нужно, чего им хочется, что они могут сделать, а чего нет. Это всегда исследование. Мне кажется странным пускаться в путь, зная ответы. Мне совсем не близка идея ответов в принципе, мне близка идея вопросов, я существую в вопросительном дискурсе. Мне важно правильно ставить вопросы, а не давать ответы. Потому что на те вопросы, которые волнуют меня, ответов в принципе нет.
– Когда ты начал работать над сценарием?
– Писать я начал в 2010-м, ещё до "Шопинг-тура", и сценарий у меня сразу же не получился. Я его бросил. В 2011-м, очень быстро, за 2 недели, написал "Шопинг-тур" и быстро снял. А пару лет спустя вернулся к "Волнам" опять. И снова не пошло. Но эта история не отпускала меня – очевидно, иначе бы мы не разговаривали сейчас, 12 лет спустя. И вот летом 2018 года я оказался в тяжелой жизненной ситуации, надо было что-то делать, чтобы не загнуться, и я решил, что пришло его время. И заставил себя сесть и написать его заново.
– С чистого листа?
– Ну, практически да. От начала и до конца.
– Насколько глубоко ты погрузился в материал сект? И как возникла фигура Николы Теслы как определяющий культ в "Волнах"? Секта ведь теслианская, правильно?
– Конечно, я изучал секты, хотя, как видно из фильма, мой ресерч мне практически не понадобился. Я смотрел много фильмов, телепередач, документальных записей, читал, изучал разные ритуалы. Тесла возник с самого начала. Мне казалось, что секту надо придумать с нуля, чтобы у нее не было аналогов в реальности. В какой-то момент мне помогал мой товарищ Максим Исаев, крупный художник, один из сооснователей питерского театра "АХЕ". "АХЕ" называется "инженерным театром" – они работают не с пьесами, а со стихиями – водой, огнем – и мне показалось, что это то, что надо. Вместе мы придумали эту теслианскую секту. Для меня было важно, чтобы секта была не буквально религиозная, не христианская, не про Бога. Их бог – это энергия, волны. Мне хотелось, чтобы секта была максимально доброй, доброжелательной, не ощерившейся, не явно тоталитарной.
– И тем не менее секта в фильме, на мой взгляд, довольно тоталитарна.
– Любая секта, в сущности, тоталитарна – это заложено в самой её природе. Вообще, надо сказать, наша секта была разработана в гораздо большей степени, чем это понадобилось фильму. То есть я знаю про нее гораздо больше, чем любой зритель “Волн”. Мы с Максом написали целую "библию" нашей секты: распорядок дня, система поощрений и наказаний, всё-всё-всё. В финальном варианте фильма секта отошла на второй план, что изначально не планировалось. Но наши создания часто сами диктуют нам, чего они хотят. Я вообще верю, что фильм (ну, или роман) – это живой организм. Не нам иногда решать.
– Ты не увлекался Кропоткиным или Бакуниным в юности?
Мне глубоко чужда замкнутость любых духовных или интеллектуальных систем
– Нет, никогда. Знаешь, когда мне было лет 18–19, в Советском Союзе начали издавать Борхеса. Он, вместе с Кортасаром, стал прямо-таки духовным пастырем целого поколения советских детей. И вот в первом, голубом таком, его томике, изданном в серии "Мастера зарубежной прозы", я прочитал рассказ “Смерть и буссоль”. Там, на трех, как обычно у Борхеса, страницах рассказывалась такая детективная история. Во время конгресса каббалистов происходит первое из серии убийств. Затем убийства продолжаются, и герой-следователь понимает, что все они происходят по некой схеме, пространственно-временной, которая связана с непроизносимым именем бога. И поняв это, он вычисляет, где и когда произойдёт следующее убийство. Он отправляется туда, чтобы это убийство предотвратить, и, разумеется, оказывается, что это – ловушка, что он и есть следующая, последняя жертва. Кстати, фильм Ларса фон Триера "Элемент преступления" основан на этом рассказе, без объявления, если не ошибаюсь, этого факта. Так вот. Рассказ этот меня поразил. Но ещё больше, чем сам рассказ, меня ошеломила его интерпретация, приведённая в предисловии к сборнику. Там говорилось, что следователь стал жертвой собственной веры в симметрию, в какую-то законченную систему знания, взглядов. Как только ты замыкаешься в одной системе, ты попадаешь в ловушку и ты проиграл. Уж сам не знаю почему, но эта мысль меня глубоко поразила, пронзила даже, на всю жизнь. Сформулировала, видимо, что-то, что я интуитивно чувствовал про себя. Я понял, например, что, во что бы я ни верил, я никогда не смогу воцерковиться, никогда не смогу стать адептом какой-либо школы, или идеологии, мне просто глубоко чужда замкнутость любых духовных или интеллектуальных систем. Эта проблематика присутствует и в "Волнах", наверное. Мы об этом уже говорили: система взглядов, любая, любая симметрия предлагает ответы. А я не верю в ответы, я верю в вопросы.
– И с 18 лет ты так ни разу – хотя бы ненадолго – не становился адептом какой-то системы знания? Правда?
– Да, представляешь? Казалось бы, абзац в предисловии к книжке, а изменил мою жизнь навсегда.
– Вернемся к фильму. В качестве сценариста указан и Константин Мурзенко, и, я помню, он также числился соавтором твоего первого фильма “Гололед”. Как устроено ваше соавторство?
– Слово "соавторство" нуждается в уточнении, в обоих случаях. В титрах обоих фильмов написано "при участии". Для меня принципиально важно, что я снимаю то, что написал сам. Константин входит в работу сильно позднее, когда сценарий, то есть его первый вариант, уже готов. Тогда мы разбираем этот сценарий по косточкам, на профессиональном жаргоне это называется "разминать", проходим по каждой сцене, каждому диалогу, кое-что меняется, дописывается, переписывается, и на выходе мы имеем уже более или менее финальный вариант. Чтобы ты понимал, если первый драфт я писал 8 лет и одно плотное лето 2018-го, то с Мурзенко мы уложились в три недели летом 2019-го.
– А вообще, в своих авторских работах ты часто развивал идеи в диалоге с кем-либо? Тебе вообще важен диалог c другим автором в процессе создания кино?
Я живу в постоянном диалоге с самим собой
– Скажем так, я о нём мечтаю. Я всю жизнь, с тех пор как мы, гуляя с моим другом Сергеем Добротворским по Сентрал-парку в Нью-Йорке летом 1993 года, сочинили сценарий – он назывался "Бёрдлэнд" и канул в Лету – всю жизнь я ищу себе соавтора. Ищу и не могу найти. Ну вот сейчас, кажется, тьфу-тьфу, в очередной раз нашёл, но, чтобы не сглазить, давай лучше не будем о нём говорить. Возвращаясь же к твоему вопросу, главный диалог должен быть, конечно, с самим собой. Я вообще человек одинокий и живу в постоянном диалоге с самим собой. Кино – это просто один из языков этого разговора.
– Ты когда-нибудь чувствовал, что твой фильм, сделанный, как исследование, поиск ответов на волнующие вопросы, опять же как диалог с собой, успешно выполнил для тебя некую психотерапевтическую функцию?
– Боюсь, что это недостижимо. Звучит-то красиво – искусство как психотерапия для автора, это ещё Выготский, кажется, придумал, да? Но в реальности… Наверное, работа спасает от депрессии, да, но сказать, что вот я снял фильм о таких-то проблемах и таким образом изжил эти проблемы для себя, фильм вылечил меня от моих недугов – это вряд ли, конечно.
– Тогда спрошу так. Какими недугами ты живешь сейчас и что планируешь с этим делать?
– Ну что тут скажешь. Мы все сейчас живём одним недугом, одной бедой. Всё рухнуло. Мир, каким мы его знали. Планы. Будущее. Смыслы – тоже рухнули, всё. Заканчивая "Волны", я с соавтором начал писать сценарий своего следующего фильма. Есть такое понятие в киноязыке – "континьюити". Последовательность – кадров, событий, жестов, не важно. Вот этого мы лишились. Мой следующий фильм должен был быть комедией, лёгкой, простой, я очень устал, делая тяжёлые "Волны". Ну и вот 25 февраля мы ещё сели, пытаясь продолжать, но у нас ничего не вышло. Посмотрели друг на друга, выпили и бросили всё к чёртовой матери. А как иначе? Та жизнь, о которой мы, да и все, думали, писали, снимали, в одночасье закончилась. То, что было современностью, вдруг стало ретро. Между январём 2022-го и, скажем, 19-м веком вдруг не оказалось никакой разницы – и то и другое стало вишнёвым садом, который срубили. А что началось – вообще пока непонятно.
– Как ты вообще переживаешь время, в котором мы сейчас оказались?
Мы все оказались лицом к лицу с историей и с самими собой
– Я считаю, что время, в котором мы оказались, исключительно, беспрецедентно важное. Я даже не имею в виду цивилизационный слом, что мы сейчас, возможно, находимся на крутом повороте человеческой истории. Хотя и это тоже. Но я имею в виду личные, интимные аспекты происходящего. Мы все, весь мир – но русские люди в особенности, конечно – оказались лицом к лицу с историей и с самими собой. Перед какими-то главными, возможно, выборами своей жизни. Понятия "судьбы" и "совести" перестали носить абстрактный характер. Нет возможности отвести глаза. Вот смотри: моё поколение, удивительно, восхитительно даже, видело многое, так много, что совсем не каждое поколение может похвастаться. Но, например, конец коммунизма, падение Берлинской стены. Событие? Ухх! Или 11 сентября 2001-го. Кризис? Да пиздец. Но какие личные выборы эти глобальные кризисы перед нами, лично перед каждым из нас, ставили? Да никакие, в сущности. Интересно, важно, глобально, но. А тут, сегодня… Возможно, мы ещё в принципе не способны оценить значительность происходящего. Ну и, соответственно, каждый для себя должен принимать какие-то кардинальные решения. Подчеркну: не обязательно декларировать, но принимать – неизбежно. Я для себя, например, решил, что не могу больше сейчас заниматься фикшеном. Фикшен для меня умер. На время, надеюсь. Я правда не понимаю, какого рода истории можно сейчас придумывать, мои истории – а я прежде всего в жизни считаю себя рассказчиком историй, сторителлером – во мне замерли. А поскольку я также снимаю документальное кино – и люблю это дело, по целому ряду причин, одна из которых – что я могу всё делать сам, не нравится мне коллективность кинодеятельности, не люблю я людей, – то сейчас я думаю о документалистике. Во мне есть что-то от партизана, а в создании дока, любого дока – что-то от партизанщины. У тебя есть оружие – твоя камера, и ты находишься наедине с реальностью. Жизнь говорит с тобой напрямую. С документальным кино только такая проблема, что не хочется злободневности, которая сейчас как будто напрашивается сама собой, а как по-другому подходить к настоящему времени, непонятно. Поэтому пока я всё ещё в растерянности, но чувствую, что внутренняя немота, оглушившая меня, как и многих, полгода назад, начинает потихоньку рассасываться. Вот я недавно начал снимать одного человека. Это мой друг. Человек тяжелый, сложный, обуреваемый демонами и борющийся с ними. Бескомпромиссный и загнанный в угол. Ему очень плохо сейчас, он тяжело переживает происходящее. И я решил его поснимать, подумал, что вот, может быть, можно сделать такой портрет времени через портрет одного человека. В общем-то, обычного. Я даже название придумал: "Повседневный человек". Теперь осталось только его снять. Но это долгоиграющий проект, на год, или на годы, может быть, на всю оставшуюся жизнь.
– Один из наших общих друзей рассказывал мне, что ты горишь упомянутой тобой вскользь идеей кинопартизанства как единственным, на твой взгляд, способом гражданского сопротивления для кинематографиста. Можешь рассказать о кинопартизанстве подробнее? Что этот термин для тебя вообще означает?
Я считаю кино деятельностью не эстетической, а этической
– Я не вкладываю в понятие "партизанского кино" политического смысла. Для меня партизанское кино – это в первую очередь "плохое кино", "грязное кино", кино, сделанное "на коленке", – мне это нравится, это моё, хотя, глядя на стилизованную, такую "художественную" картинку "Волн", возможно, так и не скажешь. Партизан – это тот, кто выскочил из леса, нажал на курок и обратно в лес. И мне нравится, когда у меня в руках камера и я могу встать, или спрятаться, или выйти, или поплыть, и на выходе у меня будет кусок диалога с реальностью. В этом ничего не должно быть, кроме абсолютной директности, никакого "искусства", точнее, никакой "эстетики". Тут вообще, наверное, нужно сказать, что я считаю кино деятельностью не эстетической, а этической. Все твои выборы – где поставить камеру, как она будет двигаться, сколько будет длиться кадр, и т. д. и т. п. – абсолютно все выборы – они не эстетические, а этические.
– Этический выбор в твоем прочтении граничит с концептуальным?
– Этический в философском смысле, в смысле Спинозы и Канта. Снимать человека снизу или сверху – это вопрос этики, а не красоты. И документальное кино в этом смысле идеально, потому что, когда я говорю об этике, я в конечном счёте говорю об отношениях с реальностью, а док с реальностью соотносится напрямую.
– События, начавшиеся 24 февраля, на твой взгляд, как-то повлияли на судьбу “Волн”?
Весь мир, а не только отдельные его части, сошёл с ума
– Ну как? Как и на всё остальное. Убили его. Ну, или тяжело ранили. С одной стороны, что такое фильм в сравнении с человеческой жизнью? Да что с человеческой, хоть с кошачьей. Кусочек пластика или несколько гигабайтов на жестком диске. А с другой стороны, это же мой ребёнок. Огромный кусок моей жизни, моего сердца. Что мне теперь со всем этим делать? Он был в шорт-листе одной из программ одного из крупнейших мировых фестивалей, я это знаю из достоверных источников. Ну и потом – всё. Спасибо, не надо. Встали и пошли.
– Как ты относишься к cancel culture, ко всем этим отказам в визах и прочая?
– Ужасно отношусь, как ещё. Это бред, дикий бред. То есть понятно, естественно, откуда это взялось, но объяснимость ещё не делает что-то правильным. Ландсбергис вон вообще договорился до того, что всех русских надо запереть внутри, чтобы они там все, как пауки в банке, перегрызлись и поскорее революцию сделали. И это говорит историк, внук первого президента независимой Литвы. Про Ленина ему, наверное, на истфаке не рассказывали. Я считаю, что то, что мир в борьбе с тоталитаризмом оружием выбрал расизм – ещё одно свидетельство того, что весь мир, а не только отдельные его части, сошёл с ума.