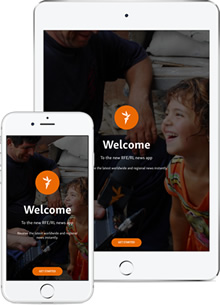До того как Светлана Лищинская сняла документальный фильм "Немножко чужая" о четырех поколениях женщин в ее семье во время войны, она работала режиссером на украинских телеканалах. Светлана из русскоязычной семьи и родилась в Мариуполе. Ее матери и дочери с внучкой удалось выехать в Киев до полномасштабного вторжения. Фильм начинается с кадров полностью разрушенной квартиры Светланы в Мариуполе.
Это фильм-размышление о том, как чувствуют себя русскоязычные украинцы, как будто немного чужие для государства. "Немножко чужой" Лищинская чувствует себя и в собственной семье, потому что ее дочь воспитывала бабушка, пока Светлана строила карьеру в столице. По словам режиссера, этот фильм – искупление вины перед близкими.
– Как появилась идея фильма о русскоязычных мариупольцах во время войны?
У нас никого не расстреляли, никто не сидел в тюрьме. Но мы почему-то не хотим в Советский Союз
– Россия эксплуатирует тему прошлого, тему Советского Союза. Она тянет в прошлое, "Старые песни о главном", культ Сталина, культ Великой Отечественной войны, эти пилотки со звездочкой… Ностальгия по Советскому Союзу. "Ах, огромная ошибка, Советский Союз разрушился!" Вот это было для меня главным триггером для фильма. Потому что никто из моей семьи не жалеет о Советском Союзе. И я хотела это показать. Есть много фильмов про зверства коммунистов, это все знают. Но тем не менее в Украине до сих пор остались люди, которые скучают по Советскому Союзу. Я хотела показать свою семью, обычную семью. Да, у нас никого не расстреляли, никто не сидел в тюрьме. Но мы почему-то не хотим в Советский Союз. Почему мы не хотим в Советский Союз, ведь было такое вкусное мороженое?
– Я читала в вашем интервью, что вы хотели снимать другой документальный фильм, про языковые курсы, но идея фильма о семье победила…
– Да, это так. Общественное сознание, национальное, и мое в том числе, активизировалось в 2014 году. Был даже короткий период, около месяца, когда Мариуполь находился под оккупацией, в городе висел и дэнээровский флаг, и российский. Это было с апреля по май, 9 мая украинцы освободили Мариуполь. И тогда я думала: почему мне так неприятно, что там висит чужой флаг? Мне было интересно: что происходит в головах у людей? И я захотела снять фильм. Узнала про бесплатные курсы украинского языка, которые начали проводиться по всей Украине волонтёрами, в том числе в Мариуполе. Хотелось снять людей, которые туда пошли, и самое интересное для меня было: что мешает мариупольцам принять украинскую идентичность? Почему они до 2014 года, и я в том числе, нормально не знали украинский язык? Что нас держит? Почему мы не можем двигаться в сторону Украины ментально? И у меня не было никаких ответов. Сейчас кое-какое видение появилось, и вот это было триггером для фильма.
– Фильм начинается с вашей разрушенной квартиры в Мариуполе. Это страшные кадры. Как вам удалось их снять?
Да, мы такие, но это не значит, что мы не украинцы
– У меня в Мариуполе остались родственники, тетя и вся ее семья – тоже поколение женщин, её дочь, внучка, моя двоюродная сестра и двоюродная племянница и правнучка, все остались там, у моря. И я попросила их снять мой дом. Потому что сложно представить, во что он превратился. Они пошли и сняли сначала, пока он был просто обгоревший. Снимали квартиру, рассказывали, как там что, а потом сняли, как его снесли.
– Какие у вас при этом были ощущения – потерять свой дом?
– Я человек без привязанностей, но для меня это было больно. Но не сравнить, например, с моей дочерью, которая родилась именно в этом доме и жила до окончания школы там. Потому что в этот дом мы заехали, когда я в 5-м классе была, потом я там пожила, там я вышла замуж, потом в другом месте жила… Лишиться этого дома – это просто для меня было неприятно. Как будто тебя обокрали, кто-то пришёл, потоптался по твоим вещам, пока тебя не было. А мою дочь Александру просто как будто разорвало в клочья, потому что этот дом реально часть ее идентичности, ее личности, ее туда принесли из роддома, там она росла, там мы были вместе, потом она там жила с бабушкой. Там она влюблялась. И когда она это всё увидела, было страшно, что с ней происходило. Очень страшно, потому что часть твоего сознания, жизни, мира просто разрушена, и ты никогда туда не вернешься. Я не знаю, как это передать словами.
– Александра говорит в вашем фильме, что она видит сны на русском языке. А вы спрашиваете ее, почему она не разговаривает "державною мовою". Может ли государство контролировать, на каком языке мы говорим в семье? И вообще, нужно ли это?
– Мой фильм о том, что происходит за закрытыми дверьми. Потому что и я, и Саша – мы знаем украинский язык прекрасно. Мы на нем общаемся легко в публичном пространстве, даже в социальных сетях пишем на украинском. На улице, в магазине я говорю по-украински, но, когда закрывается дверь, это мое личное пространство. И я о нем рассказываю в фильме.
Здесь меня может кто-то осуждать, но мне кажется, что это мое как бы уже такое интимное место. Это вопрос ценностей, понимаете, сны. Ну как можно осуждать человека за то, что мама с ним говорила на русском языке? За то, что в городе, где он рос, не было ни одной украинской школы? Моя Саша пошла в школу в двухтысячном году. Моя мама отдала ее в украинскую школу, единственную на полумиллионный город. А до 2014 года Мариуполь не очень был интересен украинскому государству. Поэтому то, что происходит в головах у жителей этих регионов... ну я бы, честно говоря, просто не бралась судить этих людей. Я бы не судила их за то, что они, может быть, недостаточно украинцы, потому что они говорят на русском языке. Ведь надо вообще понять, мы хотим быть вместе с этими людьми или не хотим. Если не хотим на уровне государства, тогда зачем мы вообще освобождаем эти территории? А если хотим, то мы должны быть готовы к диалогу с этими людьми: ну вот да, вот они такие. Вот я показала, да, мы такие, но это не значит, что мы не украинцы.
– Одна из ваших героинь, о которой мы узнаем от вашей мамы, – тетя Лариса, которая "всегда была очень проукраинской", но в оккупации она говорит вашей маме по телефону, что сейчас у нее все хорошо. Давно ли ваша мама или вы общались с тётей Ларисой и как сейчас дела обстоят в Мариуполе? Ведь она до сих пор там находится…
Все уже начинают понимать, что квартир никаких не будет, ничего не будет
– На днях моя мама общалась с тетей Ларисой, и дела обстоят таким образом: растет разочарование. Потому что до этого все знаете как у них было? Все сожгли, всех убили, отключили интернет. Несколько месяцев вообще не было никакой связи. Потом дали только российские новости, и моя тетя Лариса, когда только связь появилась, очень удивилась, когда узнала, что Одесса украинская. Ведь им рассказывали, что Украина уже проиграла, что Одесса уже в России. И что сейчас мы вам тут всё построим, квартиры вернем. И сейчас у моей тети Ларисы, которая всегда была очень проукраинской, я думаю, уже отсутствие сил и воли, да и возраст не позволяет ей бороться, она просто сломлена. Ей там пообещали, что квартиру вернут, а сейчас она уже три месяца не может от них даже пенсионные выплаты получить, потому что каких-то документов нет. И конечно, все уже начинают понимать, что квартир никаких не будет, ничего не будет.
— Вы ощущаете себя немножко чужой и в своей семье, не только в государстве?.. Вы считаете, что этот фильм – искупление вашей вины?
— Я всегда считала себя плохой матерью. Казалось, что вот эти все пеленки, распашонки и дети – это как-то низко. Эмпатии, какой-то заземленности не было. И я до сих пор не знаю: то ли это государство виновато, то ли моя семья, то ли я такая. Вот мне казалось, что общественная жизнь гораздо важнее, чем пеленки стирать и варить кашу. И когда я стала старше и прошла различные кризисы, когда мы оказались рядом со смертью, и ты понимаешь: а что главное в твоей жизни, что самое ценное, что ты сделал, что ты упустил? И я понимаю, что вот эти как раз пеленки, может быть, были важны. И человек, который рядом с тобой, которому ты дал жизнь, который тебе верил, – ей дать тепло, часть себя, это и важно.
Я хочу, чтобы у дочери было государство, чтобы она знала, что государство её защитит
И я понимаю, что тот язык, на котором я говорю, – это язык кино. Ну вот я сейчас брошу всё, брошу спасать страну, поеду в Англию к дочери… Нет, мой язык любви – создавать, сделать так, чтобы у них было государство. Это мой язык любви. Я хочу, чтобы у них было государство. Как Саша в фильме говорит: я все равно не буду англичанкой, даже живя в Англии, я останусь тем, кто я есть: украинка, жительница Мариуполя. Я хочу, чтобы у нее было государство, чтобы она знала, что государство ее защитит. Как развитое государство заботится о своих гражданах? Для меня это важно, и фильмом я это хотела сказать. Я хотела, чтобы моя дочь это поняла и поняла, что это мой язык любви, что я её люблю.
– До фильма вы работали на телевизионных каналах, на развлекательных проектах, потом ушли. Можете рассказать почему?
– Я сразу после института в Мариуполе пошла на телеканал, потому что у меня была захватывающая работа – отсматривать фильмы на VHS, и мне за это платили деньги. Работая на телевидении, я начала вникать, что такое монтаж, что такое композиция. И потом, уже под конец, ближе к 2014 году всё было на таком сомнительном уровне… Для меня это было антигуманно, я работала в реалити-шоу, и приходилось манипулировать одними людьми для того, чтобы развлекать других людей. Это была какая-то соковыжималка. И последней каплей стало, когда у меня на реалити-шоу была мать с ребенком, у которого была очень тяжелая форма менингита, его еле спасли. И вот спустя пару лет после этого они попали к нам в реалити-шоу, и мне продюсер говорит: там такое интересное задание, чтобы мы оставили этого ребенка на чужого дядю и маму надо было увезти куда-то, будто бы она такая плохая мама. Я не взяла на себя этот грех, будучи режиссером, и я на свое усмотрение сделала так, чтобы ребенок все-таки был с матерью, по-другому это сняла. За что меня просто уволили с проекта. Я поняла, что у нас разные ценности, я хочу делать что-то другое.
– Какие теперь планы, что собираетесь делать после успешного дебюта на Берлинале?
Хочу, чтобы мой фильм работал на деколонизацию территорий, ментально колонизированных Москвой
– Хочу дописать сценарий своего игрового панк-андеграунд-фильма "Гудбай, фешн". Обстоятельства подталкивают меня к тому, что я должна сделать этот малобюджетный фильм, в котором много актрис. Когда я ушла с телевидения, то пошла работать в киевскую комиссионку "Гудбай, фешн" и там записала много интересных диалогов.
Я хочу разрешить себе в этом фильме быть свободной. Я не знаю, как, в чём это будет выражаться – как-то без страха разрешить себе говорить. Убрать всех внутренних цензоров и без оглядки выразить вот эту идею, что все люди несовершенны, как и страны нет идеальной. Но красота и мудрость мира в том, что мы как-то уживаемся друг с другом, и в этом принятии можем быть счастливыми.
– А после премьеры на Берлинале появились какие-то новые перспективы, связанные с финансированием, или какие-то заманчивые приглашения?
– Пока рано об этом говорить, пока приглашают нас активно правозащитные институции. Это меня очень радует, потому что я хочу, чтобы мой фильм работал на деколонизацию территорий, ментально колонизированных Москвой. Страны Балтии, Азия, Восточная Европа. Там проживает очень много людей, которые продолжают не видеть ничего плохого в – я даже не хочу называть это слово – бывшем Советском Союзе. Нет никакого Советского Союза, нет никакого бывшего Союза. Я хочу поменять нарратив: есть колонии.
Вот это цель моего фильма, и таких людей полно в этих колониях, таких как моя семья, которые тоже вначале не видели в этом опасности. Они живут спокойной жизнью, но это до поры до времени.